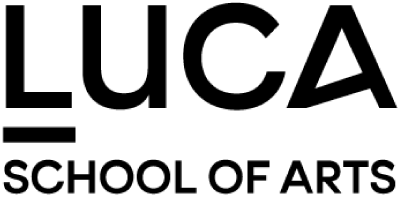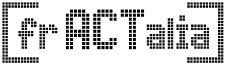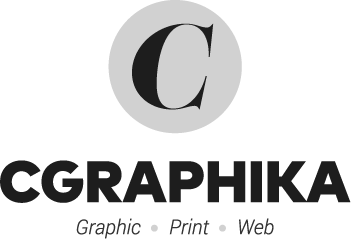Честно сразу признаюсь, в последнее время я мало читаю современную русскую прозу, но когда я случайно наткнулась на пассаж из этой книги в Интернете, поняла, что хочу прочитать ее всю и сразу. Прочитала. Снова прочитала. Еще раз… Сейчас, когда я чуть-чуть отодвинула от себя свою первую реакцию на эту неожиданную книгу – своё восхищение, мне немного легче анализировать прочитанное.
 Я давно столько не улыбалась и не плакала в один вечер – триста с лишним страниц концентрированных эмоций. Мне захотелось выразить вдохновение автору Карине Добротворской.
Я давно столько не улыбалась и не плакала в один вечер – триста с лишним страниц концентрированных эмоций. Мне захотелось выразить вдохновение автору Карине Добротворской.
Попробую описать свои ощущения от книги, потому что если я не напишу сейчас, я могу не написать никогда.
Несмотря на то что писатель, Карина Добротворская, выразитель современной словесности, я проецирую её тексты в любимую мной эпоху импрессионизма. Импрессионистические образы, в изобилии обнаруживаемые в тексте, дают на это право, но едва ли книга «Письма к Сереже”, как целое, может считаться импрессионистической, в классическом смысле этого определения. Самая плотность мысли Карины Добротворской, скорее напоминает этюды хайку, чем извивающиеся бесконечной лентой Мёбиуса прустовские ‘Поиски’. Читается текст с легкостью именно из-за своей хайковской лаконичности, легких поворотов мысли, напоминающих пучки света. Хотя, с другой стороны, автор не анализирует, а синтезирует, что, собственно, характерно именно импрессионизму.
Что опять же заставляет меня сравнивать ощущения от букв прозы Карины Добротворской с ощущениями от хайку – это то, что они целиком рассчитаны на особый способ восприятия, который японцы называют «ёдзё» – избыточное чувство, «послечувствование». Это свойство текста, когда автор не пытается выразить мысль или чувство как можно полней, а наоборот, даёт только несколько деталей, провоцирующих полное раскрытие образа в воображении читателя. Эти апелляции к воображению и памяти читателя, послечувствование текста – то, что обезоруживает и не даёт заснуть:
“Когда ты выходил из нашего домашнего пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо было постоянно что-то доказывать, и прежде всего – собственную состоятельность. Мир был большой – ты был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несоразмерности. Тебя занимал феномен гипнотического воздействия на людей, который заставляет забыть о невысоком росте: “Крошка Цахес“, “Парфюмер“, “Мертвая зона”. Ты тоже умел завораживать. Любил окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил, когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных в тебя студенток…Я никогда тебе не говорила, но ты казался мне очень красивым. Особенно дома, где ты был соразмерен пространству. “
Проза Карины Добротворской напоминает мазки из образов памяти, в которую вплетаются рассуждения. Из этих мазков и выстраивается текст, натюрморт катастрофы, ПОЛОТНО неисчезающей любви. В любом, наугад выбранном небольшом фрагменте этой текстовой картины мы немедленно улавливаем взаимопроникновение всего и вся:
“ Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели на кухне, пили черный чай из огромных кружек или кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться. Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду, но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница? ”
Или:
“Дело было летом. С датами у меня плохо, но, наверное, это был девяностый год? Вокруг нас бушевала историческая буря, но почти всё стерлось из памяти. Телевизор я смотрела мало, газет не читала, радио не слушала, интернета ни у кого не было. Я жила в мире влюбленностей, доморощенной и книжной философии, разговоров с подругами о самом страшном и самом главном, книг и толстых журналов, учебы, фильмов, театра. За нашими спинами трещала по швам большая советская история, но я, увлеченная тем, как менялась моя маленькая жизнь, этим не интересовалась. Все происходящее в стране воспринималось как яркий, но далёкий фон. Хотя, возможно, безумие, которое творилось с тобой и мной, было отголоском этой прорвавшей плотину свободы. “
Память тут прямо превращается в материю. Текст наполнен фотографиями воспоминаний. Вещи – не такие, какими они представлены глазу писателя, а такие, какими писатель их мыслит или мыслила. Результатом этого мышления стали интересные пространственно-временные переходы памяти. Они наполняются самым простым предметным содержанием – счастьем в убогой хрущевке, черным чаем из больших кружек, совместной страстью к кино, Парижу, чтению лекций, журналистике…
Эти мазки памяти то и дело вводят зрителя книги из одного пространства в другое, заставляя его совершать колебания между “есть” и “было”, перелетать из мишленовских ресторанов Парижа 21 века в бытовые пейзажи Питера, заполненного горожанами позднеромантической эпохи России 90x. Переходы c эффектом cross-dissolve из «сейчас» в “было”, фланирование по улицам Питера и Парижа разных эпох, растворяющихся друг в друге – не женская сентиментальная проза, а современный импрессионизм.
Импрессионизм “Писем к Сереже” отличает ясный взгляд на мир, взгляд, лишенный всякого мистицизма. Способность автора БЫТЬ (после всего пережитого), хоть и не ‘здесь и сейчас’, но всё-таки БЫТЬ, БЫТЬ ВОПРЕКИ. В этом “быть вопреки” спрессована вся бесконечность времени, пространства и любви. Вся эта бесконечность – в утрах, днях, ночах с Сережей, начавшихся на переходе у набережной Фонтанки, около сквера на улице Белинского и закончившихся/расстворившихся, как сахар в горячем чае, только с последней строчкой этой книги. Эта спрессованность измерений, это нарастающее напряжение сюжета — совсем не технический прием писателя. Спресованность продиктова необходимостью пройти заново туда и обратно: из “есть” в “было” и из “было” в “есть”, – по семи клавишам дней, чтобы поставить точку на последней странице памяти, завершающий штрих на полотне неоконченной любви.
Язык Карины Добротворской – когда клавиатурой владеет чувство, без шлифовок.
На самом деле, всё вышесказанное – ни к чему. Невозможно объяснять словами импрессионизм Моне или Писсарро, невыполнимо рассказывать о музыке Шопена или Земфиры, абсолютно невмоготу комментировать хайку японских мастеров слова. Буквы Карины Добротворской становятся живыми, превращаются в акт любви только в соприкосновении со зрителем ее книги, точнее ‘книгокартины’. И только тогда, во время прочтения, возможно, всплывут из ниоткуда портреты Ренуара, или кинематограф мыслей и настроений Луи Деллюка, или постельное белье с хищными растениями Моники Марон. Вчитайтесь…:
“В Доме кино, куда мы ходили как на работу, ты приучил меня сидеть в первом ряду.
– Настоящий зритель всегда должен сидеть в первом ряду. Он должен пытаться сократить дистанцию между собой и экраном, – говорил ты. Ложился в кресло, закидывал голову, вытягивал ноги – и улетал. Твой главный спарринг-партнер во всем, что касалось кино, Миша Брашинский однажды поразил меня тем, что, устроившись – так же, как ты – в первом ряду, страстно, почти как в постели, прошептал:
– Господи, Каришонок, как же я люблю кино…
Ты не раз говорил, что в самой идее кино есть что-то религиозное. Твое выражение – “храмовая тишина кинотеатра”. Сходную мысль я встретила у Бюнуэля: из театра люди выходят оживленными, переговариваясь друг с другом, а из кинотеатра – молча, глядя в землю. А еще кто-то, кажется Антониони, писал, что в кинозале люди сидят, воздев глаза вверх, как к небу.”
Из “Писем к Сереже” я вышла молча, затем вслепую, машинально, по стенам продвигалась из спальни в ванную, остановилась… перед зеркалом.